Хрусталев, машину! (1998)
(1998) 18+
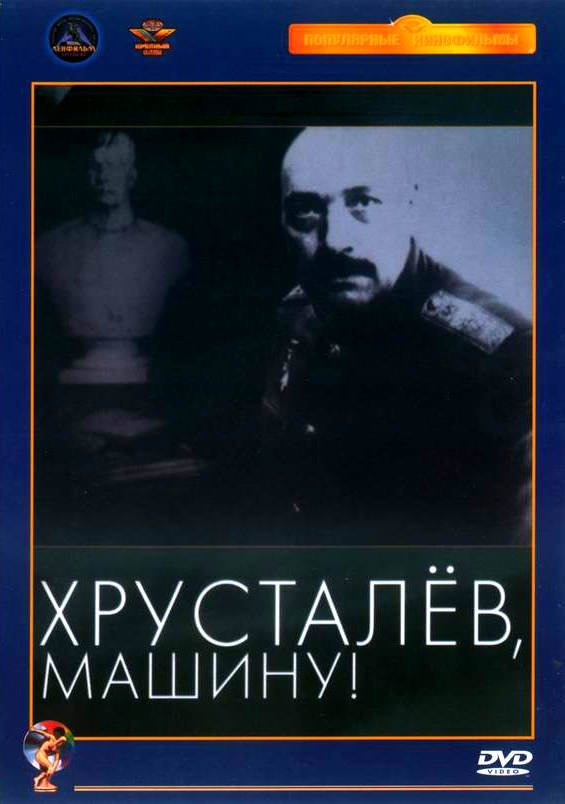
О фильме
В последнюю зимнюю ночь 1953 года московский истопник Федя Арамышев по дороге на работу соблазняется блестящей фигуркой на радиаторе пустого, засыпанного снегом «Опеля», стоящего на обочине.
Откуда было знать бедному Феде, что из-за легкомысленного поступка он попадет в историю, связанную «делом врачей», оперативными планами МГБ и высокой политики. Эта история так и останется для него неизвестной, он так и не поймет из-за чего получил десять лет лагерей…
Откуда было знать бедному Феде, что из-за легкомысленного поступка он попадет в историю, связанную «делом врачей», оперативными планами МГБ и высокой политики. Эта история так и останется для него неизвестной, он так и не поймет из-за чего получил десять лет лагерей…
Подробная информация
Страны производства фильма
- Франция (20 мая 1998) - 0
- США (28 сентября 1998) - 0
- Франция (13 января 1999) - 25
- Бельгия (27 августа 1999) - 0
- Греция (13 ноября 2000) - 0
- США (14 июля 2001) - 0
- Чехия (15 марта 2002) - 0
- Италия (21 декабря 2003) - 0
Участники съемочного процесса
- Режиссер - Алексей Герман
- Актеры Кленский - Юрий Цурило
- Актеры жена - Нина Русланова
- Актеры сын - Михаил Дементьев
- Актеры - Юри Ярвет
- Актеры сестра генерала - Генриетта Яновская
- Актеры - Александр Баширов
- Актеры анестезиолог в клинике генерала - Дмитрий Пригов
- Актеры влюбленная учительница - Ольга Самошина
- Актеры зэк-шофер - Александр Лыков
- Актеры Терентий Фомич - Виктор Степанов
- Актеры - Константин Хабенский
- Актеры - Марк Гейхман
- Актеры - Роман Чора
- Актеры шофер генерала Кленского - Виктор Михайлов
- Актеры - Владимир Рублев
- Актеры - Александр Левит
- Актеры двойник генерала - Иван Мацкевич
- Актеры - Валерий Порошин
- Актеры - Олег Гаркуша
- Актеры - Владимир Гарин
- Актеры - Евгений Филатов
- Актеры мл. лейтинант - Сергей Ланбамин
- Актеры - Даниил Белых
- Актеры - Сергей Пинегин
- Актеры чекист - Сергей Русскин
- Актеры - Анна Овсянникова
- Актеры - Юрий Ашихмин
- Актеры начальник ГПУ - Владимир Мащенко
- Продюсеры - Александр Голутва
- Продюсеры - Армен Медведев
- Продюсеры - Ги Селигман (Guy Séligmann)
- Сценаристы - Алексей Герман
- Сценаристы - Светлана Кармалита
- Оператор - Владимир Ильин
- Композитор - Андрей Петров
- Художники постановщик - Михаил Герасимов
- Художники постановщик - Георгий Кропачев
- Художники постановщик - Владимир Светозаров
- Художники по костюмам - Екатерина Шапкайц
- Монтажер - Ирина Гороховская
Тэги фильма
1950-е, Абсурдизм, Анархия, Антисемитизм, Арест, Армия, Баня (купальня), Близнецы, Больница, Вокзал, Генерал, Грузовой автомобиль, Групповое изнасилование, Гулаг, Доктор, Закадровый голос, Зверство, Изнасилование мужчины, Иосиф Сталин, Квартира, КГБ, Красная армия, Москва, Россия, Мужская нагота (вид спереди), Отношения бабушки и внука, Отношения матери и сына, Отношения мужа и жены, Отношения отца и сына, Поезд, Полиция, Психиатрия, Пуститься в бега, Ремонтник, Ручная камера, Символизм, Слуга, Снег, Сон
Рецензии пользователей
| Оценка | 1 |
| Заголовок | Шедевр |
| Текст реценизии | «Хрусталев, машину!» — настоящее произведение искусства, ставшее классикой сразу после выхода. Фильм, не понятый на фестивале в Каннах. Но включенный в число 50 лучших картин, снятых за последние 50 лет. Теперь, после просмотра, я понимаю, почему фильм провалился в Каннах. Это слишком сложное кино. Даже для русского человека картина будет чрезвычайно сложной для восприятия, что уж говорить об иностранцах, сидящих в жюри фестиваля и знающих о нашей истории лишь понаслышке. Они просто ничего не поняли. Фильм, по старой советской традиции, состоит из двух серий. Первая обрушивает огромный поток информации, как цунами, отсеивая слабых и неготовых к просмотру зрителей, которые наверняка скажут «бред сумашедшего» или «Герман сбрендил на старости лет». Фактически на тебя с экрана выливается целая эпоха, со всеми ее достоинствами и недостатками. Вторая же серия действует, как болото, затягивая зрителя все глубже и глубже. Настолько, что оторваться от экрана практически нереально. Перед просмотром советую почитать немного о «деле врачей», да и вообще о тех временах, т. к. не зная истории событий, происходящих в фильме, понять сюжет просто не представляется возможным. Герман ничего не объясняет, ничего не разжевывает зрителю, а просто показывает на первый взгляд разрозненные эпизоды, похожие на странный и страшный сон. Фильм действительно представляет собой смесь из снов и фантазий мальчика, ставшего свидетелем страшных событий, произошедших не только с его семьей, но и со всей страной. Герману удается невозможное — уместить в 2 часах целую эпоху. Картина просто потрясает своей атмосферой, гармонией и удивительным ощущением правды. Не возникает не единого сомнения, что все именно так и было, и это притом, что фильм преподносится как абсолютный балаган, не возможный в реальности. То есть сюжет картины основан на реальных событиях и многие эпизоды, присутствующие в нем действительно имели место быть, но показано все настолько сюрреалистично и абсурдно-комично, что Линч и Бунюэль просто отдыхают. Актерская игра, операторская работа, монтаж и т. д. — все это уходит на второй план, уступая место фактуре и стилю, в котором снят фильм. Картина одновременно похожа и не похожа на остальные фильмы Германа. «Хрусталев, машину!» — это абсолютная концентрация его авторского стиля. Фильм представляет собой сочетание комичных и очень жестоких эпизодов. К примеру, есть просто ужасающая сцена изнасилования, снятая настолько натуралистично, что мне пару раз даже пришлось отвести глаза от экрана, притом, что я довольно легко переношу насилие в кино. «Хрусталев, машину!» — очень сложная и необычная картина. Жестокая и страшная комедия об ушедших временах, об изнасилованной, как главный герой, стране и о запуганных людях. И как же хорошо, что у современного человека есть возможность посмотреть на всё это со стороны, а не испытывать на собственной шкуре… |
| Оценка | 3 |
| Заголовок | Последний из Гулливеров |
| Текст реценизии | 1953 год. Москва. Последняя ночь февраля. Снег. Страна охвачена волной антиеврейских настроений. «Мы не против евреев, мы против сионистов». Статьи в «Красной звезде». Дело врачей на своем репрессивном пике. Снег. Истопник Федя Арамышев еще не знает, что, выйдя с работы, следующие десять лет зима для него не прекратится. Вождь всех народов агонизирует и вот-вот упадет в кому, еще не зная, что, обгадившись перед последним вздохом, следующую вечность проведет в аду. Московская квартира. Сожительство русских и евреев. Извечные склоки коммуналки. Грязь. Постель, провонявшая колбасой. Алкоголь кружками. «Увезите меня в богадельню!». Трехлитровые банки с закрутками. Собака на голове. Почти бергмановские близняшки, прячущиеся в платяном шкафу при каждом звонке в дверь. Кипяток из подстаканников. Улыбчивый русский генерал в подтяжках. «Чаю!». Гимнастические кольца. Наш герой повисает вниз головой, наконец-то приняв положение адекватное всему вывернутому наизнанку государству. Алексей Герман рисует свое полотно без каких-либо объяснений. Широкими резкими движениями погружает зрителя в грязный сосуд, преисполненный историческими нечистотами. Подобно климовскому Флере за всем происходящим наблюдает мальчуган лет тринадцати. Плевок в зеркало дает отмашку истории. Огромный доктор-генерал будто символ былого величия народа. Высокий. Широкоплечий. Лысый. Усатый. С широченной улыбкой. Сверкающие пуговицы на форме. Минет в рабочем кабинете. Полная уверенность в себе. Но даже таких ломают. Выселением из квартиры. Поездкой на север. Фургончиком из-под «Советского шампанского». Грубым зековским изнасилованием. Эпоха на экране создается какими-то кажущимися бессвязными эпизодами. Припорошенными памятниками Сталину. Церквями, переделанными в баню. Тщательно обмываемой культей. Памятниками из льда. Кавказским весельем. Плачущим музыкантом. Пририсованным членом на картине. «Один американец засунул в жопу палец». Негнущимися подковами. Пьяной собакой. Липовыми школьными дневниками. Саблями в детских руках. Снегом. Снегом. И снова снегом. «O sole mio!». Режиссер закручивает абсурдность своей истории до такой точки, что картину становится просто невозможно смотреть физически. Абсурд не ради абсурда. Абсурд как единственно возможный метод передачи посыла ленты. Бедные каннские зрители. Откуда ж им было знать о северном Феллини. Так сказал кто-то из критиков. Итальянец впечатал в историю своим «Амаркордом» фашистский режим дуче. Немного севернее, на Балканах, спустя тридцать с лишним лет памятник в целлулоиде одной стране Югославии поставил Эмир Кустурица. Монумент Германа не такой цветастый, его балаган страшен по своей сути, а красота картины в уродстве ее составляющих. Рыдающий Берия. Умоляющий о спасении Сталин. «Хрусталев, машину» — фраза кинутая Лаврентием после смерти Сталина. Не знал этого один из лучших историков мирового кино Мартин Скорсезе, сидевший во главе жюри. Старик был вынужден признать, что чуть ли не впервые на своем веку он не понял фильм. А он и не мог понять. Есть вещи, которые сложно уложить в голове. Герману только детство помогло преодолеть и переосмыслить это. Как известно только детская психика способна пережить столь сильные потрясения. Вроде самого бесчеловечного, растянувшегося на десятилетия, эксперимента над страной. Страной стран. Страной странностей. Герой Баширова недоумевает, почему все время бьют. Он просто кричит: «Liberty!». Он даже не против того, что бьют. Но почему же, объясните? Не потому ли, что в стране странностей все время норовят ударить того, кто слабее. Не потому, что кто-то слабее, а потому, что в следующую секунду слабым можешь стать ты. И надо успеть за это время пнуть как можно больше и как можно изощреннее. И когда запинают тебя, будет уже не так обидно. «Хрусталев…» не только агония сталинизма во всем своем уродстве. Картина, уже во времена независимости полностью сделана в стилистике советского кино. Это последний шедевр кинематографа несуществующей уже на политической карте страны. Фильм Алексея Германа, как полотно Рембрандта вдруг, по какой-то нелепой случайности, оказавшееся на совковом межрайонном смотре достижений социалистического реализма. Именно таким, выбивающимся из контекста деградации кино на просторах бывшей одной шестой, кажутся эти два с лишним часа мало кем понятого таланта. Два с лишним часа извечной борьбы Давида с Голиафом. Человека против системы. Великана против своры шавок. Части механизма против самого механизма. Где самые болезненны удары получаешь со стороны того, что еще вчера казалось своим, родным, обеспечивающим защиту. Герман выплескивает на экран не свою злобу на полетевшую в тартарары эпоху, даже не злобу своих родных. Его картина это концентрат всего того, что довелось испытать целому поколению, поколениям. Поколениям, привыкшим, что люди бесследно исчезают в ночи. Поколениям, где лучше быть сумасшедшим, где не надо оглядываться, где трепанация черепа лучше всякой высокой должности и где предпочтительнее быть ожившей тенью. Больная страна с непредсказуемыми симптомами. Он, как истинный художник, самоотверженно пропускает через себя всю болезнь, воссоздавая ее в мельчайших и оттого наиболее страшных деталях. Есть подвиг Климова, сотворившего свой «Иди и смотри» в какой-то невероятной реалистичности и правдоподобности ощущений. Черно-белые кадры «Хрусталева…» пронзают не меньше горящего амбара с живыми людьми. Изнасилованная взводом нацистов девчонка-подросток у Климова перекликается с генералом Юрой, которого поимела собственная же страна. Эстафету постаревшего мальчугана Флеры подхватывает генеральский сын. В другое, сытое и беспечное, время ему бы крепко влетело за онанизм, курение трубки, сидя на унитазе и школьные отметки. В 1953-м всем на это плевать. Дети, подражая взрослым, устраивают свои, детские, от этого не мене жестокие репрессии друг против друга. А взрослым просто некогда. В фильме удивительный контраст вечно пустующих улиц, отданных на растерзание «людям в штатском» и битком набитых вещами, домашними животными и гражданами помещений. Кончина Союза дала возможность Герману снять, пожалуй, свой самый личный фильм. Без оглядки на контролирующие инстанции и обволакивания своего творения в нейтральные формы. Восемь лет труда над фильмом сделали его в свое время самым ожидаемым кинособытием, премьера в Каннах отсекла от фильма неподготовленную аудиторию, а изощренным критикам подкинула ту еще задачку. Фильм, буквально прижимая зрителя своим сверхреализмом, тем не менее, не претендует на историческую достоверность. Повествование исполнено в виде воспоминания или даже сновидения. Отсюда вечная дымка и фантастический снегопад все время. Каждый кадр выверен как отдельная профессиональная фотография, которые сменяют друг друга безо всякого сюжета. Обрывки фраз размыты, мотивация многочисленных персонажей непонятна и только отдельные слова, вдруг обретшие четкость во всей окружающей какофонии, звучат как приговоры эпохе. Не случайно мальчугана, чьими глазами мы все наблюдаем, зовут Алешей, а его отца Юрой. В его глазах отец — настоящий двухметровый великан, с некой благородной снисходительностью наблюдающий за всей этой мышиной возней под ним. В эдакого Гулливера в стране лилипутов отечественного кино уже давно превратился сам Герман. Впрочем, каждая Лилипутия стремится ослепить своего Гулливера и отправить в изгнание. Так что держитесь, Алексей Юрьевич, не вам ли знать как это трудно быть богом. |
| Оценка | 3 |
| Заголовок | Гениально приготовленное «стекло с песком » |
| Текст реценизии | Как-то в школе я читал роман Чернышевского «Что делать?». Один из его колоритных героев, ригорист Рахметов, активно занимался саморазвитием, включающим духовную, интеллектуальную и физическую составляющие. Так вот, в книге есть сцена, когда Рахметов с удовольствием читает одно из последних произведений Ньютона с его рассуждениями об Апокалипсисе. Как говорится в книге, Ньютон ко времени написания данной работы был уже слегка безумен, поэтому читать его размышления об Апокалипсисе было тоже самое, что есть стекло с песком. Но Рахметову было вкусно… Посмотрев «Хрусталев, машину!», я понял, что имел в виду Чернышевский. Безусловно, снять подобное мог только Гений, подобный Сальвадору Дали или Пикассо, тут спору нет. Вопрос, насколько это способен воспринять обычный человек, и насколько форма подачи соответствует содержанию, идеям и смыслу, который пытается донести режиссер. Эта гениальная картина по тому, как встают колом мозги от ее просмотра, сродни парадоксальным коанам (историям) дзен-буддизма, где за причудливой, парадоксальной и наполовину безумной формой скрыта суть этого учения. Понять суть дзенских коанов методами формальной логики невозможно. Вот и понять данный фильм Германа традиционными методами также нереально. Органы чувств протестуют, нервная система идет вразнос, мозги отказываются работать, но при этом с первых кадров понятно, что ты имеешь дело с творением Гения. Чувства настолько противоречивые, что описать их невозможно. Безусловно, картина очень полезна молодым режиссерам и актерам. Искусствоведы могут найти в ней бездну смысла, которого действительно в ней сокрыто много. При этом простой зритель просто умрет через 30 минут после начала просмотра, либо рискует сойти с ума к концу картины. Очевидно, что очень немногим нужен и будет полезен этот фильм. Большинство покрутит пальцем у виска и будут по-своему правы. Несмотря на это, шедевры такого уровня обязаны время от времени рождаться, так как выход за рамки привычных стереотипов в искусстве, даже высокохудожественных и доказавших свою значимость периодически просто необходим. |
| Оценка | 1 |
| Заголовок | Последний шедевр XX века |
| Текст реценизии | Ошеломляющий фильм. Сразу после просмотра понимаешь не разумом, а каким-то тонким внутренним чувством, что увидел нечто настолько необыкновенное, чего точно не видел ранее никогда и вряд ли когда-то увидишь в будущем. Не увидишь потому, что этот фильм невозможно оторвать от его времени, от этой эпохи ужасного величия и великого ужаса — сталинской эпохи, о которой много документальных свидетельств, ещё больше легенд и небылиц, но осталось не так много людей, впитавших в себя эту эпоху всеми фибрами души как тот мальчик из коммуналки, разъезжающий по квартире на роликах и харкающий в разбитое зеркало, а великих режиссеров среди этих людей и подавно… Этим мальчиком и был юный Алеша Герман, в «Хрусталеве», как и в «Лапшине», повествование ведется от его лица. Что в этом фильме? Что это вообще было? Как так можно снимать? Эти вопросы идут следом, когда шок от просмотра начинает понемногу проходить. Этот фильм конечно же никакая не «правда об эпохе», не её документ и не попытка что-то там воссоздать, это чрезвычайно глубокая личная рефлексия Алексея Германа об этом времени, художественная форма визуализации его памяти. Если пытаться определить жанр фильма, то это будет нечто типа «гипертрофированный реализм с элементами трагифарса». Реальность в фильме Германа рвется из кадра, трещит искрами трансформатора, пылает языками пламени, сталкивает между собой машины и автобусы, ввергает людей в ругань и жестокие потасовки. Как будто все коллективное бессознательное советского народа времен сталинизма Герман хотел запихнуть в без малого два с половиной часа фильма, давление в таком маленьком временном пространстве становится чрезмерным, а поведение героев из-за этого дикого напряжения — эксцентричным и фарсовым. В первой части фильма режиссер как будто намерено децентрирует сюжет — линия военного врача — Генерала, живущего со своей семьей в классической советской коммуналке, перекликается со злоключениями непутевого истопника печей, арестованного из-за чрезмерного любопытства, и некоего иностранца, похоже специально подосланного НКВД-шниками к Генералу для его дискредитации. Но о каких-то четких линиях первое время говорить вообще не приходится. На экране бурлит советский Вавилон — разборки на коммунальной кухне, обход хлебающим коньяк из чайных стаканов Генералом своей больницы, застолья у генеральских друзей — и всё это с шумно и бестолково лезущей в кадр толпой. Мозг зрителя находится на грани взрыва, но спасает улыбка — множество фоновых фраз забавны. Юмор в серьёзном кино — это как раз то, что выдает почерк великих режиссеров. В «Хрусталеве» не раз также заставляет улыбнуться персонаж Федька Арамышев по кличке Гандон (выбор актера здесь очевиден, таких чудаков-психопатов всегда великолепно играет Александр Баширов), тот самый истопник печей, который невесть зачем захотел стырить фигурку с капота служебного автомобиля и отправился мотать срок по лагерям. Эпизоды с этим героем в конце фильма, когда он освобождается из лагеря с воздушными шариками и криками «Liberty!», заставляют уже не просто улыбаться, а смеяться во весь голос. Но до этих смешных эпизодов не раз пришлось испытать совсем иные чувства. Одна из центральных тем в фильме — тема насилия. Наиболее четко данную тему можно проследить на примере Генерала, на котором постепенно замыкается сюжетная нить фильма. Насилие от скуки — минет Генералу в служебном кабинете. Насилие без любви — влюбленная в Генерала старая дева, приютившая главного героя в ночь перед его арестом, лишается девственности. Генерал бежит от неизбежного и сталкивается с новым бессмысленным насилием — его избивают палками сельские шпанята. Та система ломала и прогибала любых исполинов, насилие было её неотъемлемой частью и главной движущей силой. Поняв это, Генерал, плоть от плоти системы, смиряется и переживает следующий акт насилия по принуждению — в фургончике «Советское шампанское» его грубо насилуют зэки, разрывая внутренности черенком от лопаты. Пока уголовный Пахан, единственный, кто получил удовольствие от всех этих описанных актов насилия, корчится в экстазе, Великий Пахан всея Союза (получал ли он такое же удовольствие от зверских мучений «врагов народа»?) бьется в предсмертной агонии и к нему в спешном порядке прямо из зэковского фургончика вызывают Генерала. Наспех переодевшись и придя в себя, «опущенный» Генерал очень быстро поднимает голову и уже бьет сапогом в лицо не кстати подвернувшегося солдата — насилие продолжается, порочный круг не в силах разорвать никто. Наконец, последний акт морального насилия — с трудом опознав в умирающем в куче дерьма усатом старике Вождя, Генерал с упоением бросается целовать ему руки и живот. Как тут не вспомнить заповедь тоталитарного государства Оруэлла: «Свобода — это рабство!». Единственная свобода единицы системы — это быть рабом, лишиться свободной воли и ответственности за собственную судьбу, слепо покоряться и принимать существующие законы. «Хрусталев, машину!» — кричит Берия сталинскому охраннику и эта фраза, давшая название фильму, становится посткриптумом к эпохе. Есть ли там проблеск любви и проблеск веры? Та старая дева, «тургеневская девушка», говорит, что любит Генерала, но при этом понимает, что не хочет ребенка от такого отца. Это любовь-фантазия, плод неизбывной тоски женского сердца по мужскому началу. В сыне Генерала, увидевшем его в короткий момент возвращения, безумный страх перед системой начинает бороться с религиозным чувством, он падает на колени и начинает истово молиться, но всё же потом тянется трясущимися руками к телефону, чтобы заложить отца. Да, это жестоко — в море злобы и насилия ростки любви и веры не успевают пробиться наверх, но таковой и была наша жизнь. Другая ли она сейчас? Эпоха закончилась, её сменяет новая эпоха — каковой будет она, будет ли она строиться на принципиально иных началах? Материализовавшийся из небытия Генерал (настолько «иной», что нельзя отделаться от ощущения, что это его двойник), ставший уголовным авторитетом, веселится с зэками в открытом вагоне поезда, показывает забавный трюк — ставит стакан на голову и, не разливая его, кидает в стороны две тяжелые железки. Пустые возбужденные глаза «нового» Генерала, уходящий вдаль поезд, летящие по ветру матерные фразы… Так заканчивается этот фильм, совершенно непонятый ни жюри Каннского фестиваля, ни похоже европейцами вообще. Нерусскому человеку наверное действительно сложно это понять. Но мы поняли, Алексей Юрьевич. Мы поняли Вашу тоску, поняли Вашу боль, поняли Вашу тревогу. Эти чувства и желание прочувствовать то время есть во многих из нас, поэтому огромное спасибо Вам за этот фильм, за подлинный шедевр, последний шедевр XX века. |
| Оценка | 1 |
| Заголовок | Кулак модернизма |
| Текст реценизии | Некогда, при «восходе» самого тоталитарного и «индустриального» столетия именитый немец-социолог бравировал окончательным изъятием термина «гениальность» из сферы искусствоведческого теоретизирования. Как ни странно, ныне сей царственный маркер «всех талантливых и одаренных» превратился в типичный философствующий троп, неизвестно о чем свидетельствующий. Правда, и сейчас даже самые рафинированные исследователи не брезгуют попользоваться этой отягощенной традицией лексической фигурой (в рамках обогащения стратегии стилевого разнообразия, — вот как напыщенно), чтобы безосновательно превознести Нечто, либо Некто. Но исходная «Гениальность» затерялась в метаязыковых пучинах, где рядовой «нубиец» потонет в мгновение. Поэтому ленивому, страшащемуся затрат и усилий, сибаритствующему «это — гениально» необходима классовая подмена — мозолистый, рабоче-крестьянский аналог из конвейера обоснований и аргументированных «человекочасов». Итак, какой же рационально пространный аналог можно привести фразе «Хрусталёв, машину! А. Германа — это гениально». Обывательский флёр мнений покрывает барочную плоть кинокартины «сюрреализмом», «сверхреальностью», «гиперреальностью», «постсоветским абсурдизмом», «иноприродностью сталинизма» и прочей домотканой вычурностью абстрагирующей латыни. Вроде бы «Хрусталёв…» утихомирен затвором сциентистских интерпретаций. «История лысого и усатого» расколота, унифицирована, приведена к единообразию… короче, фильм прочитали и низвели к не рядовому пастишу на сталинскую «тотальность». Дескать, режиссер конструирует иную реальность того времени, совпадающую с послевоенной действительностью только уровнем жестокости и траекторией нонсенса. Не найдя подследственных сюрреализму растекающихся часов или чеширских голов, критик ищет в статичных кадрах и примечательно абсурдистских ситуациях глубины метафоричности а-ля Бергман-Тарковский. И, естественно, обретает, игнорируя прогностично безупречную евангельскую сентенцию о правоте и «истинности» ищущего. Итак, «сюр-», потому как совершенно не совпадает с «упаковкой ожиданий» зрителя. Но все-таки — «СЮР-». Секрет — в самой режиссерской подаче. Герман не дает сконцентрироваться на событиях, тщательно препятствует процессу разбирательств в сюжетных перипетиях… в конце концов, невидимой рукой паяца мешает сфокусироваться на первичном в практически любой мизансцене. Каждый кадр кипит, шумит, изрыгает образы и звуки, причем целостно, без постмодернистской «коллажности» — если мямлит «бабулька», это делает именно пожилая персона, а не сюрреалистичные вставные зубы или иссохшая ива. Здесь фон первичен в отношении центрального действа. Антураж искривляет сюжетную линию, причем совершенно не в ущерб последней, ведь классическая структура литературной композиции соблюдена. «Торжество контекста», — так бы ответствовали бы заумные учебники обширной гуманитаристики. Первое «импрессио» — режиссер тщательнейшим образом, дланью художественного фанатика, генерирует всю раскадровку, насыщает ее таким невероятным количеством самостоятельных, осмысленных деталей, что приводит к нормальному результату — атрофии «обывательского» мозга. Это доподлинно титановый молот Модернизма по «нашим» нейронным сетям, и если бы дело было в объяснимой «быдловатости» зрительского большинства. Наш аппарат восприятия не способен к расфокусировки (по крайне мере, это не его рабочий ход», он ищет центрации на чем-то конкретном. Когнитивная очевидность: мы воспринимаем действительность избирательно, выхватывая редкие отрезки реалий в кратковременную память и отвергая огромный массив остальных. В акте восприятия мы уже генерируем упрощенную «реальность», которая потом еще более «уменьшиться» в плоскости языка, способствуя неким прагматичным целям; давным-давно это поспособствовало эволюционному выживанию. Сейчас эта особенность мешает осмысленно созерцать гипер сложнейшие шедевры монструозного мэтра Модерна. Кинематографическую действительность освидетельствует ни очевидец, ни автор, ни третье лицо, ни главный герой, и, конечно, ни сынок генерала с исходящим взрослым закадровым голосом (он в принципе подошел бы под любую из упомянутых выше категорий, т. к. занимает некую промежуточную сюжетную позицию). Никто из людей не исследуют реальность таким образом, ни во сне, ни наяву. Кто же? Банальнейшим образом, нейтрализующее, бесстрастное «синтетическое рыльце» кинокамеры (понятно, что эффект техногенного повествователя создан модернисткой хваткой фанатичного режиссера). Редкий кадр дает возможность сфокусироваться на конкретном месте, в каждом кадре существует несколько целостных, самостоятельно существующих локаций, сплющенных звуков и образов, и это при единой сюжетной сетке, где известна главная персона — инициатора событий. «Действительность через объектив фотокамеры», — наконец, воплощенная очевидность. Пусть верный ответ бездушного аппарата «яркое контрастное пятно» здесь не дается, но все равно нечто над-человеческое резюмируется — синхронная жизнедеятельность десятков людей и сотен вещей в пределах зрительного обзора на единицу времени. Вот и получается пекло антигуманистического киноавангарда. Брейгель, Босх, их адепты-сюрреалисты, — по степени насыщенности композиции, замешанные на Брехте, Товстоногове и образцовом соцреализме, — с позиций театральной экспрессии… прошедшие фильтрацию черно-белой стилистики. С первого раза тонкости сюжета и степень авторитарной «гениальности» картины вряд ли доходят до зрителя, — все больше крепкого эпатажа, политизированной эксцентричности, настоятельной скандальности. Ведь в редкие моменты, когда Герман разжижает густоту кадровой синхронии, зритель сталкивается с маргинальными или иронично бытовыми событиями. Вот на чем режиссер позволяет сфокусироваться пристальному взгляду — на блаженствующих зеках-«колобках», насилующих товарища генерала в лысую голову (здесь, кстати, Г. Ноэ со своей «Необратимостью» по-режиссерски отдыхает на пару с Беллуччи — изображение «износов» разномасштабны, несравнимы по уровню мастерства), на подыхающем в антисанитарном сранье тов. Сталине (а здесь режиссерски не-гетеросексуальный долг обязан выполнить Соловьев со своим прямолинейным образом Сталина в «Чёрная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви»), специфическом способе «траханья» толстух, котике неудачно охотящимся за рыбой, и прочие мелочи. Короче, это намеренное модернистское издевательство над эгалитарно коллективным разумом — перенасытить большинство сюжетнообразущих кадров и в меру упростить самые скандальные и ироничные (в ином значении — «запоминающиеся», впечатывающиеся). Чтобы на выходе обыватель разошелся отповедью: «то за чернуха? что там себе режиссер при пьянчуге Ельцине позволял? Слава богу нынешняя власть не разрешает Такому непатриотичному кино появляться на свет!». А меж тем это единственное кинодостояние за «рассейскую двадцатилетку». И в конце. Исходя из синхронной перенасыщенности раскадровки, именно этот фильм можно использовать в качестве иллюстративного инструмента для синергетической рефлексии: «птичья мова» из бифуркаций, разветвления, самоорганизованной хаотичности здесь подходит как никогда, ведь почти в каждый кадр «многовариантен» и существует ожидаемая визуальная (не сюжетная, конечно) вероятность, что камера вдруг завернет за случайной бабушкой или матерящимся энкавэдэшником. Ну, и, конечно, лелеемые П. Гринуэем техногенные мечтания о мультиэкранном кинематографе жесточайше разбиты модернистским кулаком — клокотанием десятков осмысленных автономных центров в практически каждом кадре германского киноповествования. Киношная действительность Алексея Германа «фонит» спектром звуков, цветов и почти — запахов и касаний, но «гении» не привыкли слышать друг друга. То, что Канны не приняли его, «нубийцы» табунами выходили из зала во время просмотра — дело понятное, почти обыкновеннейшее. Просто у человека ЦНС не работает таким образом, а это как раз и есть здравое объяснение «нервным, детям и беременным просмотр не рекомендован». Да, некогда моя бикса, назвала «Хрусталева…» экшеном. Интуитивная правда, похлеще обзываний в «сюрреализме». Можно только дополнить — это Интеллектуальный, Авангардистский экшен. 10 из 10 |
| Оценка | 3 |
| Заголовок | Один американец засунул в ж… палец |
| Текст реценизии | Когда началась перестройка, советские художники постепенно получили свободу творчества. Осознав это, они дружно вылили на экран мощнейший поток сознания, все свое либидо, которое сдерживалось правительством десятками лет. Этот фильм, хотя в какой-то степени самобытный и оригинальный, на самом деле очень типичен для постперестроечного экспериментального периода: Муратова, Дыховичный, Балабанов, Соловьев и даже Юрский — все они занимались чем-то подобным. В «Хрусталеве» можно обнаружить влияние целой компании режиссеров: раннего Олтмена (несколько персонажей разговаривают одновременно), позднего Кустурицы (безумный балаган), Жулавского (истерическая атмосфера), «Восьми с половиной» Феллини (камера постоянно движется, персонажи плавно входят и выходят из кадра), но самый очевидный источник этого фильма — картина Соловьева «Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви». Абсурдный черно-белый видеоряд этой картины Германом практически скопирован (достаточно вспомнить сцену вакханалии из «Черной розы» под песню Гребенщикова «Корабль уродов» — это, собственно квинтессенция всего стиля «Хрусталева»). Но при этом Герман максимально сгущает краски и уплотняет абсурд и сюрреализм до предела. Такое сгущение становится для него самоцелью и потому портит конечное впечатление: стиль фильма жутко искусственный. В фильме использованы следующие приемы: - когда говорит один персонаж, часто вместе с ним говорит и другой/другие, так что нельзя разобрать ничего; - главное действие часто происходит на заднем плане и загораживается второстепенным действием на переднем плане. Соответственно, на переднем плане торчит или часть чьей-то головы, или воздушный шарик, или какой-нибудь другой предмет то входит в кадр, то выходит из него, или некий персонаж ходит перед камерой влево-вправо, влево-вправо и т. д. Либо кто-нибудь заглядывает в камеру, чтобы что-нибудь сказать, например «один американец засунул в жопу палец» — и сейчас же убежать со смехом; - речь персонажей периодически перекрывается другими звуками, например, звоном чашки, треньканьем балалайки, стуком, треском, грохотом, скрежетом, чьим-нибудь навязчивым свистом и т. д. Практически все экранное действие заполнено активностью до предела, каждую секунду происходит какое-то абсурдное движение, словно режиссер панически боится пустоты. Иногда хочется погладить его по голове и ласково прошептать: тише, тише, успокойтесь, все хорошо, все хорошо… Все эти контрапункты до невозможности выверены и оставляют ощущение чудовищной кропотливости. Трудно даже представить себе, сколько режиссерского мастерства и таланта ушло только лишь на то, чтобы создать эффект зрительского отчуждения. Каждая сцена поставлена утрированно мастерски, но она моментально перекрывается последующими сценами, такими же мастерскими и утрированными, и через минуту уже ничего не помнишь. Соответственно, практически весь фильм от начала и до конца, за исключением нескольких сцен, воспринимается как абсолютно ровное и одинаковое зрелище, и поэтому в него была вставлена печально известная сцена изнасилования. Она поставлена с пугающим знанием дела и оставляет мерзкое впечатление — такое, какое подобные сцены и должны оставлять. У нее две цели: чтобы был катарсис (в противном случае его не было бы) и чтобы понравилось продвинутой европейской публике — она любит такие вещи. Правда, в Каннах фильм все равно не оценили, и правильно сделали: слишком уж очевидна его «абсурдная» манера, слишком просто (несмотря на безусловно огромный труд создателей) достигается бредовое ощущение: одни сцены загораживаются другими, одни звуки заглушаются другими. И, собственно, все. Хотя выверено все до микрона, и актеры не вызывают никаких нареканий, хотя они и сами не понимали, что играют. Что мы имеем в итоге? Мы имеем очень неоднозначный и неординарный фильм, который можно рекомендовать всем тем, кто ищет сильных кинематографических ощущений. После этого фильма хочется выпить сто грамм — считайте это либо плюсом, либо минусом, как вам угодно. Мне же хочется сказать, что на тему последствий сталинизма есть фильм Тенгиза Абуладзе «Покаяние». И вот этот фильм, несмотря на все его недостатки (медленный темп, «рыхлый» монтаж, опять же перебор с сюрреализмом и т. д.), впечатляет сильнее: он действительно оставляет ощущение чего-то значительного и, главное, глубокого. А «Хрусталев» оставляет ощущение сильного, но поверхностного мозготраха: будто бы Герман не столько хотел донести мысль, сколько хотел просто взбесить зрителя. Не хотелось бы думать про российскую интеллигенцию, что главная ее черта — это нелюбовь к своему прошлому, но именно такая мысль напрашивается после общения с этой интеллигенцией и ознакомления с ее взглядами. Но я верю, что она рано или поздно перестанет бессмысленно гоняться за своим хвостом и заражать человечество своими комплексами и создаст, наконец, что-то конструктивное. |
| Оценка | 1 |
| Заголовок | Другой мир |
| Текст реценизии | Невозможно понять и не возможно оторваться. Что то очень далёкое из детства, а может из снов. Да. Скорее сон. То, что после пробуждения чаще улетучивается-ум отказывается хранить и обрабатывать абсурд. Остаётся воспоминание, нет-отпечаток того, что во сне казалось безумно важным и логичным.. И часто -чувство потери чего-то. Ужасают нескончаемые движения и ничего не значащие слова. Ужасает невозможность уцепиться за смысл, но машинально продолжаешь это делать. Именно машинальность. А часто ли Смысл и Логика есть в повседневной жизни? Отстранившись и глянув иначе — мы так же нелепы и абсурдны, цели наши-штампы и движение к ним порой машинальное. Поразительное произведение. 10 из 10 |
| Оценка | 2 |
| Заголовок | «Туманность алгебры на горизонте» |
| Текст реценизии | В поисках глубокого смысла на мелководье, близорукие критики, дети «Генералов песчаных карьеров» и сотрудников ОГПУ, НКВД, МГБ, КГБ, прочих партийных так и остались детьми любящими страшилки! Множество деталей фильма просто надуманно, сгущение красок на протяжении всего фильма, отличительная черта Германа, именно благодаря этим качествам его фильмы производят впечатление на зрителя! Бежал чудом уцелевший генерал, именно бежал, по той же причине, что и один из охранников Ленина держал у двери узелок, так как он знал о том что его бывшие коллеги сгинули в подвалах Лубянки, «бежать в народ», означает податься в бега еще со времен царской России. Но куда мог сбежать человек в звании генерала, с учетом того что он на службе и фактически это дезертирство, а это уголовная статья! Да и потом кто поверит, в то что Берия мог кого то отпустить?! Наверно только тот у кого из родни ни кто не сидел! Что это за нелепая история с двойником?! Видимо навеяно временем, подобные темы были популярны в 80 — 90 годах прошлого столетия разумеется, одни связывали это с органами другие придавали этому мистический оттенок, а некоторые умудрялись увязать это с НЛО. Случай, при конвоировании, когда генерала употребляют в качестве полового партнера группа заключенных, один из примеров суровости режиссера, а заодно и несостоятельности, за мужеложство была статья, так что могли и накинуть, «банду», «группу» ни когда не перевозят вместе, будь то «грабители» или «педрилы», основой Советской уголовной доктрины было, разделяй и властвуй, впрочем её тоже позаимствовали, вопреки фантазиям режиссера, не все зэки педики или готовы опускать по тому что для этого нужно что бы половой член вставал на мужиков, за подобное можно нечаянно сесть на перо, а «легенду о анальном зондировании», распускают представители органов, дабы сделать на следствии по сговорчивее, к примеру выбить нужные показания, угрожая посадить в камеру к петухам или шепнуть что ты сидишь за изнасилование несовершеннолетней, это почти тоже самое что шепнуть, что любишь мужиков! В квартире генерала, не могло быть антисоциальных элементов, потому что это уже было основанием для его задержания или разжалования, в квартире папы Германа могли быть, а у генерала не могли быть! Да и между прочим, логичным завершением картины, была бы жуткая смерть генерала от рук сокамерников, вместо надуманной нелепой свободы. Несмотря на сюжет и прочее, актеры, такие как Цурило показали себя профессионалами, достойными представителями своей профессии, к несчастью для нас нынешнее поколение актеров оставляет желать лучшего. Сама по себе картина представляет, фантазию на тему истории или ночной кошмар, российского мастерка ужасов Германа. 4 из 10 Печально, что Российскому кинематографу больше и показать нечего, одни драмы да ужастики! |
| Оценка | 3 |
| Заголовок | |
| Текст реценизии | Белый, нейтральный цвет этой рецензии говорит вовсе не о моем равнодушии к фильму, а о противоречивости чувств вызванных его просмотром. Таких чувств очень много, они сложные и все их тяжело описать одним словом, можно указать лишь, что колеблются они где-то в промежутке между отвратительным восхищением и недоумением. Это тот редкий случай, когда невозможно сказать однозначно понравился фильм или нет, но по силе своей он недосягаем. «Я решил, что я умираю. Это со мной случается часто» А. Ю. Герман. Эта фраза, вырванная из одного интервью Алексея Юрьевича Германа, может ответить на самый популярный вопрос, возникающий у зрителей относительно его творчества. Почему он снимает свои фильмы так долго? Уже второй его фильм (по повести Стругацких «Трудно быть богом», первым был рецензируемый фильм) создается им как последний. В свои последние произведения автор вкладывает весь талант, всю душу. Каждая мелочь важна как никогда, каждый кадр должен кричать о чем-то. Когда перед съемками Герман в очередной раз почувствовал что умирает, он решил увековечить на пленке жизнь своей семьи в период своего детства. Фактически вся первая часть фильма сделана по его личным воспоминаниям. Но так как это все-таки вписано в контекст сюжета, то герои изменены, в частности главный герой фильма — генерал Юрий Кленский (Юрий Цурило), который заменяет собой отца автора фильма, писателя — Юрия Германа. Из-за этого и возникает главная путаница фильма. Герман, показывая жизнь своей семьи, наверное, забывает, что жизнь семьи генерала далеко не жизнь семьи интеллигента. И в данном случае я не могу согласиться с эгоистичным желанием автора вставить в фильм свои воспоминания, принося в жертву здравый смысл. Хотя во время просмотра об это уж точно не задумываешься. Итак… Это конец зимы 1953 года. И больше автор не будет объяснять ничего. Из самого этого факта нужно понять, что заканчивается эпоха Сталина, настрадавшаяся страна еще живет по жестоким законам тирана, но вот-вот уже должно случиться… В «Хрусталев, машину!» каждый кадр вопит, каждый звук врезается в мозг, намеренно выделенные фразы въедаются в память. Всё настолько детально, что спустя минуту после начала фильма ты уже находишься там — в этом черно-белом заснеженном городе. Попадая туда перестаешь что либо понимать, вокруг тебя происходит удивительная фантасмагория, при всей своей природе кажущаяся настолько реальной, что больше чем на два часа она может заменить действительность. Алексей Герман остается верен своей манере повествования. Камера постоянно движется, не давая возможности сфокусироваться на одной из проплывающих мимо сотен деталях, мимо проходят люди, говорят что-то, перебивают друг друга, старики неустанно что-то буровят, дети носятся, дразнятся, жизнь кипит… Но при всем при этом на протяжении всего фильма мне не встретился ни один настоящий человек, только увядающие, безвольные, сумасшедшие призраки мельтешат перед тобой. Для меня «Хрусталёв, машину!» стал страшным сном, увиденным в реальности, страшным, но чрезвычайно интересным и не отпускающим от себя до самого конца, как не отпускают настоящие кошмары. Где-то в середине фильма мозг начинает судорожно приклеивать одно событие к другому, и только тогда может появиться свет в конце темного тоннеля. Но тут начинается вторая часть фильма, и она несет в себе сцены жестокие, страшные, уничтожающие. Фильм чёрен, мрачен, туманен. Он беспощаден к своему зрителю. Он дает колоссальное количество информации (деталей, символов, случайно брошенных фраз, на первый взгляд неясных действий главных и второстепенных героев) и не дает возможности разложить все по полочкам, он затягивает в атмосферу безысходности, в мир, в котором ни за что не хочется оказаться самому, имеющим мало общего с реальностью, но преподносящий себя как самая что ни на есть… Он неповторим. Оставляя шрамы на впечатлительных душах, он говорит: «Ничего, заживёт!» Смеётся над болью, измывается над человечностью. Нормальный человек не может создать такое, для этого необходимо быть либо гением либо сумасшедшим, что не редко одно и тоже. Не могу рекомендовать фильм к просмотру, его вынесут не все. Но те, кто вынес, не спешите с выводами. Первые полученные эмоции не раскрывают смысла происходящего, а вот когда действительно заживёт, тогда появится пища для разума. Мало какой фильм производит впечатление такой силы, как «Хрусталёв, машину!». Мало какой режиссер может отбросив все каноны кинематографа создать подобное полотно. Не могу и не буду верить, что это срисовано Германом с реальной жизни, настолько все отвратительно просто не может быть. Кто-то видит в фильме юмор, иронию, смеется над персонажами, считает, что в фильме хороший конец. Вышедший из колонии и обвешанный лампочками истопник снова унижен, он не понимает, почему его всю жизнь бьют. Забавно? Для кого как. Окончательно сломанный человек уезжает куда-то на поезде со стаканом бражки на голове. Оптимистично? Едва ли. |
| Оценка | 1 |
| Заголовок | |
| Текст реценизии | У фильма «Хрусталёв, машину!» своеобразная жизнь и судьба, противоречивая и полярная в своих мнениях, что ещё более выявляется и в оценках и мнениях по поводу картины. Лента снималась около 7 лет и уже до собственного выхода объявлялась шедевром. Участвовала в Каннском фестивале, но, как пишут, многие критики и зрители просто покидали зал, не намереваясь это больше наблюдать. На Родине фильм собрал чуть ли не все премии «Ника» по главным категориям. А впоследствии «Хрусталёв, машину!» стал стабильно занимать всякие высокие места в списках «самых-самых». Фраза «Хрусталёв, машину!» имеет в себе реальную историческую основу — именно такое словосочетание выкрикнул Берия, уезжая в неизвестном направлении с дачи мёртвого Сталина. Да и сюжет картины основывается на реальных советских событиях, касающихся дела врачей. Многие описания сюжета начинаются с одного и того же, по большому счёту, к основным событиям фильма не имеющего никакого отношения предложения: в последнюю зимнюю ночь 1953 года московский истопник Федя Арамышев (по кличке гандон) по дороге на работу соблазняется блестящей фигуркой на радиаторе пустого, засыпанного снегом «Опеля», стоящего на обочине. Скажу сразу, что, просматривая сам фильм, я сюжета полного не понял вообще. Общие моменты я конечно уловил, что среди врачей не чисто и за главным героем по какому-то поводу охотятся, что евреи в этом замешаны каким-то образом, по поводу смерти Сталина и Берии, но, не зная о некоторых событиях времён Сталина (берём то же «дело врачей»), события кинофильма приходится затем дорабатывать по сторонним источникам, да и общее построение картины может менее прозренных по поводу происходящих событий вообще попросту ввести в ступор. Повествование ведётся от имени сына генерала медицинской службы, чей закадровый голос является уже даже не взрослым, а может доносится из уст человека преклонного возраста. Но все события фильма ориентируются вокруг того самого генерала Юрия — лысого и усатого здоровяка, вокруг которого остальные люди кажутся нечто незначительным. Картину называют самым личным и самым жёстким фильмом Германа. И это действительно можно видеть таким образом, ибо происходящее на экране не просто не снималось для всеобщего обозрения — у режиссёра даже и в мыслях такого не было. Отражая пережитое в своём отрочестве и, возможно, отождествляя себя именно с этим сыном генерала, Герман создаёт непонятный и причудливый мир, который похож на сумасшедший дом, а герои являются его пациентами. Все персонажи в своих действиях и репликах вываливают на зрителя просто огромное количество потока сознания, взаимодействуя между с собой постольку, поскольку каждый из персонажей является для другого внешним раздражителем, выявляя своими действиями и словами ответную реакцию на каком-то подсознательном уровне. Количество скапливающихся героев и предметов в кадре может зашкаливать, и все они делают что-то только им известное и нужное. Желание уловить какую-то логичную линию слов и действий вскоре отпадает полностью (в то же время во второй части фильма события и действия стали гораздо логичнее и последовательнее). В звуковом потоке обрывки фраз, их переплетение, перебивание, абсурдность и непонятность, и, тем не менее, доходящий смысл некоторых брошенных, но немного выделяемых слов. Действие картины (особенно первую часть — фильм разделён на две части) можно сравнивать с сумасшедшим домом, только в котором нет надсмотрщиков и докторов (что уж тут, с больничным материальным окружением такое впечатление создаётся ещё больше). В этом непременная заслуга картины — чтобы создать только это безумие, нужно очень сильно постараться. И в чём связь между бедным Арамышевым-гандоном, позарившимся на блестящую вещицу и который был отправлен в лагеря, и генералом медслужбы, против которого организовали заговор ? В беспрекословности и жестокости сталинских репрессий, которые ломают любого. И насилование урками Юрия — также часть всего этого (некоторые пишут, что эта сцена в автомобильчике с зовущей надписью «Разливное шампанское» на задних дверцах является одной из самых жестоких и отвратительных в художественном кино. Но, знаете ли, только в художественном, в порнографическом кинематографе имеются явления иррумации… причём можно встретить достаточно жестокие акты, а в анусы чего уже только не засовывали, да хоть биты те же). И суть вся в несвободе человека, в его замкнутости физической и духовной, в давлении над каждым ореола жестокой расправы, и в людях всех этих, и в свободе, и в сознании мальчика-Германа, которому все происходящие события кажутся просто непонятным и сумасшедшим домом, который и показан вокруг. Воспоминания детства, обрывки фраз ловятся, Арамышев-гандон в финале на свободе кричит Liberty, уповая на то, что всю жизнь его били, Берия смилостивился над Юрием и отпустил домой, потому что тяжёлая висящая рука над его головой минут пять назад отошла в мир иной. Весь этот трагифарс заканчивается трагифарсом — почти сломавшийся символ мужского начала, детина-здоровина, сила и власть которого ничто, по сравнению с величием Сталина, и который хлещет коньяк из чайных кружек с подстаканниками, на спор позирует со стаканом на голове и тяжёлыми рессорами в руках, после которого лишь гробовая тишина титров. Мало назвать фильм замечательным — он уникальный. Вроде он имеет какие-то и весёлые моменты иной раз, да и сама обстановка создаёт странность ненормального человека, но за всем этим вьётся густой пар давления, придавливания к земле, страха, одиночества и людской трагедии. Здесь легко ломаются жизни человека и перекорёживаются их судьбы. Не часто мелькающий мальчик-рассказчик не может этого понять и его сознание превращает всё в круговорот бессвязных и бессмысленных поступков. «А ты почему не поёшь ? Не надо стесняться, что ты — еврей. Лучше постарайся быть умным»…«Тумбала, тумбала, тумба-лалайка, тумбала, тумбала, тумба-лалайка….» |
| Оценка | 1 |
| Заголовок | |
| Текст реценизии | Историческая драма Эта картина замечательного отечественного режиссёра рассказывает о, так называемом, «деле врачей» в последние годы правления Сталина. Первое, что приходит на ум после просмотра этого фильма, это слова «сильно», «мощно» и «талантливо». Хотя, думаю, не всем придётся по вкусу манера постановки Алексея Германа. Вспоминаю, как я когда-то сам впервые знакомился с его творчеством (это был фильм «Мой друг Иван Лапшин», который я считаю лучшим его фильмов), мне первое время казалось, что я что-то недопонимаю, и это меня немного коробило, однако к середине фильма Герман покорил меня, и я досмотрел с удовольствием и не против пересмотреть ещё несколько раз. Когда же я начинал смотреть картину «Хрусталёв, машину!», я приблизительно понимал, на что и иду, и картина понравилась мне с первых же кадров. Можно упрекнуть этот фильм в излишней мрачности, обилии жестокости, «чернухи», местами даже, в непонятности, но, лично я считаю, что это выдающаяся работа выдающегося постановщика, которая очень точно и своеобразно (посмотрев хоть один фильм Германа, вы уже никогда не спутаете его почерк с чьим-либо другим) передала атмосферу того времени. Во время просмотра мне даже не верилось, что кино снято аж в 98м году, а не в 50х, хотя тогда, пожалуй, такое бы снять и не дали. Я считаю, что это изумительный фильм, но не стал бы рекомендовать всем его к просмотру. 9 из 10 |
| Оценка | 3 |
| Заголовок | Изнасилованные. |
| Текст реценизии | После просмотра этого фильма была лишь одна мысль — какой изнасилованный народ живет в России. Изнасилованный всеми — царями, большевиками, властью. Этот фильм очень сложно смотреть. Воспринимать действие, происходящее на экране невозможно. Постоянное действие — камера двигается постоянно, постоянно движение и разговоры, причем не на камеру, а как-то себе под нос. Сначала появляется впечатление, что фильм — абсурд, фарс. Но оно проходит. Судьба врача-генерала, исполина, русского мужика Юрия Кленского. Он огромный, сильный, пьет коньяк, как чай, женщин любит, людям зла не делает, живет себе живет. Как легко взять такого сильного и гордого человека и сломать. Достаточно всего лишь посадить в машину с надписью «Шампанское», где такого здорового и сильного изнасилуют урки. А эта ужасная фраза: «Ну, что, они тебе анус порвали? Ничего, заживет». И тут же вознести «опущенного» до спасения умирающего Сталина. А потом человек пропадет. И казалось бы в чем соль фильма? В том, что в этом фарсе, в этом абсурде живем все мы. Пугает то, что на месте Юрия Кленского может быть каждый. Алексей Герман добился своей цели — он передал чувство беззащитности и серости, грязи повседневной жизни. Если забыть образы, то после просмотра фильма остается чувство жизни в России. Это тот самый «вкус», в котором мы живем. Фильм не для повседневного и художественного просмотра. 8 из 10 |
| Оценка | 1 |
| Заголовок | Хрусталев, машину! |
| Текст реценизии | Ушел живой классик. Теперь его канонизируют. Но ему это уже не нужно. «Хрусталев, машину!» — один из самых сложных фильмов российской кинопродукции. Такая же оторопь наступала при просмотре «Зеркала» Тарковского, оно казалось слишком концентрированным, калейдоскопичным. Но, по сравнению с «Хрусталевым», Зеркало — это детские кубики. «Хрусталев» — это закрученный космос и, чтобы туда войти, явно не хватает сегодняшнего ускорения. Этот фильм автобиографичен и одновременно — биографичен для страны. Мое детство тоже прошло в семье врача, который чудом избежал сходной участи. Герой фильма — один из тех, по чьим учебникам учились медики. Как личность он эксцентричен, экспрессивен, самодурист, велик. Итак, «крутой» герой, а при нем — коммунальная квартира в дыму и в дымке. Шевеление и копошение, едва понятные переговоры. Что создает близость к жизни, но бедного зрителя заставляет открыть от напряжения рот. Явно нужен текстовый, в кадре, или голосовой комментарий, как в малознакомой опере или иностранном фильме. Исходя из того, что Герман зряшных слов в свои картины не вставляет… Недвусмысленны и четки только две или три сцены. Это — неуклюжая любовь, эпизод в машине Советское шампанское, история с вождем. Хрусталев — это жуткое Зазеркалье, спроецированное на экран из головы режиссера и существующее уже само по себе. И Герман не печалится о том, последуют ли за ним зрители. Но есть в фильме фраза, которую удалось отчетливо услышать — Мне нравится быть русским! Вот в этом все и дело. Здесь сомнений быть не может. Вернемся к сюжету. Во второй части картины герой, как оно и следует, попадает в ГУЛАГ. Страшная сцена в фургоне и погружение в снег. Смотрите, поклонники И. В.! И — перемена судьбы. Вождь, оставшийся наедине с природой, мучается как простой смертный. Но помочь уже нельзя. И опущенный профессор возвращается, откуда пришел, вновь уезжает в северные широты, со стаканом пойла на голове, как же без этого. Как-то мировые критики, посовещавшись, заявили, что от России останутся два режиссера. Один из них — Герман (второй — Сокуров). Нам остается только это проверить. 10 из 10 |
| Оценка | 1 |
| Заголовок | Свобода — это когда забываешь отчество у тирана |
| Текст реценизии | Конец февраля — начало марта 1953-го. Генерал медицинской службы Кленский не находит себе места. Чует, что его вот-вот возьмут Органы. Пытается бежать. Но он не из тех, кто способен затеряться в толпе. Его ловят, сажают к уголовникам. Но судьба-злодейка делает крутой вираж. Сталин умирает, и его опричники привозят Кленского спасать тирана. На его глазах издыхает отец народов. «Хрусталев, машину!», — кричит Берия своему шоферу. Эта фраза становится первой в посттоталитарной России. Как нетрудно заметить: фабула в пересказе довольно проста. Но когда возникают вопросы «за что?» и «почему?», то есть, когда переходишь непосредственно к сюжету, то появляется масса сложностей. «Хрусталева», как оперу, логично было бы сопровождать программкой с либретто, ибо в отсутствии повествовательных подпорок происходящее на экране, отчужденное гротеском и избыточной эксцентрикой, усваивается с трудом. Это будет самым тяжким испытанием для публики, вряд ли ожидавшей от автора «Лапшина» радикально иного синтаксиса, воздействующего на подсознание, и повергающего зрителя в состояние неуверенности. И если частности, как, например, тончайшая проработка Германом бесчисленных деталей, характеризующих эпоху, еще узнаются, то целое предстает уже совсем другим. По сути, режиссер-гиперреалист снял сюрреалистический фильм. Непосвященных обескуражит свойственное сну отсутствие логики и внятно обозначенных причинно-следственных связей. В то время как его антипод, Никита Михалков, в последних своих фильмах апеллирует ко всё более удобоваримой образной системе, с Германом происходит обратная эволюция. В «Хрусталеве» он максимально игнорирует привычные методы сюжетосложения, вызывающие сопереживание. Смотреть этот фильм как «Утомленные солнцем» не получится, поскольку он больше похож на параноический бред, или на ночной кошмар, а ситуации определяет совсем не драматургия или актерская игра. Здесь аккумулируется энергия, если и имеющая аналоги, то, скорее с «Андалузским псом». Это дискомфортное кино, вне зоны удовольствия, которое приходится заставлять себя смотреть. «Хрусталев» не социальная диагностика, а именно фантасмагория, навеянная ужасом авторской памяти, состояния, которое Герману некогда пришлось пережить. Потому-то этому фильму так трудно быть соавтором, в него проблематично встроиться и найти адекватный отклик. Эмоциональная память не желает включаться. Яростный тоталитарный пафос ленты оказывается сродни той эпохе, о которой ведется «рассказ». Понятно, что переваривать и превращать его в собственный внутренний опыт мало кому захочется: акт этот будет сродни мазохизму. Каждый шаг здесь — продвижение в неизвестное: нелинейная драматургия, перенасыщенность реквизитом, нагромождение людей и деталей. А беспрерывный речевой поток не помогает и не дает ключа к развитию действия. Более того, речь выступает тут, скорее, в качестве фона — шумов и звуков, которые в отличие от слов гораздо лучше слышны и более внятны. Сознательная дезорганизация внимания и полное пренебрежение традициями киносложения, когда все «ненужное» выглядит гораздо эффектнее, нежели ключевые атрибуты сюжета, — вот суть новой, неприятной, но завораживающей поэтики Германа. С героями в «Хрусталеве» вообще невозможно идентифицироваться. Кленский — это не столько офицер медслужбы, сколько паяц, впрочем, как и все здесь — через одного. Но в мире бредового абсурда именно так и принято — кривляться и переигрывать. Ибо «страна уже давно находится в трансе». В бескрайнем государстве, с забитыми до отказа коммуналками, бараками, вагонами, торжествуют животные рефлексы… «Апофигей» физиологической условности — это когда цирк и крематорий вполне могут совмещаться под одной крышей. И все же жизнь побеждает тут, несмотря ни на что. Пожалуй, не было у нас до сих пор более точного физиологического портрета России конца тоталитарной эпохи. Герман предложил густой замес из Кафки, Брейгеля, Достоевского, Гоголя, Блока, Феллини и даже братьев Маркс… Неуверенность создателя: «А понятен ли фильм?», — была не случайной. Кому-то может показаться, что результат оказался мельче уровня затрат и авторских амбиций, ставших особенно заметными после болезненно переживаемого Каннского провала, в общем-то, вполне естественного. Мотивировки поступков персонажей загадочны даже для русской публики, хотя умозрительно их можно объяснить. Но «Хрусталев» — это не то интеллектуальное кино для продвинутых любителей разгадывать ребусы а la Ален Рене. Здесь из хаоса шумов и взбалмошного визуального ряда должны родиться эмоции, которые нельзя рационализировать. Но эмоциональное включение все-таки не может не возникнуть, особенно в сценах насилия, иногда запредельных в своём деструктивном безумии. Будь-то прелюдия глумления, когда «организованная органами» шпана начинает задирать до той поры неприкосновенного генерала, или же апофеоз унижения, когда в промерзлой машине с надписью «Советское шампанское» Кленского насилуют дебелые уголовники, получающие животное наслаждение от ритуала опускания. Разорванный анус… Улепетывание прочь на карачках… Голая задница в снег… Голова — в прорубь… Такую сцену вряд ли смог бы поставить потомственный интеллигент, знающий жизнь только по папиным книжкам. Россия по Герману — это извечная невозможность избежать страданий, ибо величие и унижение тут неразрывно «держатся за руки». В финале поезд, где правят бал жулики, уносит в неизвестное далёко теперь уже вагонного проводника Кленского, все такого же клоуна по натуре, держащего на голове к удовольствию окружающих стакан с бормотухой. Похоже, он понял, что освобождение в аду может быть только таким. Либерти! |
| Оценка | 2 |
| Заголовок | МИР ОЛИГОФРЕНОВ |
| Текст реценизии | Фильм знаменит самым великим провалом в Каннах. До окончания демонстрации в зале остались лишь члены российской делегации. Ушли даже члены жюри. На следующий день мировые СМИ с наслаждением смаковали детали провала. В восторге от фильма была только и исключительно российская кинотусовка, что и отразилось позже в многочисленных Никах. Для российской тусовки фильм гениален. Более того, фильм был назван шедевром еще до того, как состоялась его премьера(!). Гениален он также для девочек и мальчиков, безоговорочно следующих тренду (то, что раньше называли модой). Отношение к знаковому фильму, как принадлежность к «высшим кругам». Так было, есть и будет, и нет смысла говорить хорошо это или плохо, это есть. Элитная тусовка отличается несамостоятельностью мышления, она как стадо баранов следует за мнением своего козла. Удивляет только, почему эти люди осмеливаются называть себя «интеллектуальной элитой». Итак, две диаметрально противоположные точки зрения. Пришлось посмотреть фильм, чтобы составить свою точку зрения. Первое впечатление: Хрусталев — продолжение Лапшина. Более того, это в общем-то один фильм. Временами совпадают даже детали: турник в доме Лапшина и кольца в доме Хрусталева с физ упражнениями героев. Кадры и целые сцены из фильмов можно взаимно перемонтировать — зритель даже не заметит подмены. Такое впечатление сложилось от того, что оба фильма сняты единым методом. Характерна для манеры повествования Германа сумятица и невмятица на экране, возникающая вследствие выведения на первый план второстепенных, фоновых деталей и в картинке, и в звуке, и в содержании. Камера плывет, не давая возможности сфокусироваться на хоть какой-то осмысленной сцене. Толпы людей мечутся, бормочут что-то свое, не слыша собеседников, не вступая в реальное общение друг с другом, дети гримасничают, глумятся, песни поются кем-то закадровым, масса речевок, наложенных друг на друга, так что слушать их просто бессмысленно — это фоновый шум, а не осмысленные тексты. Народу полно, но, парадокс, собственно актерских работ НЕТ, поскольку нет ЧЕЛОВЕКА. Человека махнули местами со статистом. Одни статисты в массовке бегают, мельтешат, кружатся, орут, истерически бьют чечетку, истерически кричат, истерически следуют воле режиссера. Бессмысленно говорить об актерской работе в режиссерском кино Германа. Недаром еще в «Проверке на дорогах» (на мой взгляд единственно сильном фильме Германа) Ролан Быков непрерывно конфликтовал с режиссером и пытался бросить картину и уехать, а ведь тогда еще Герман не заматерел, метод его еще не сложился, это был его формально второй, а реально первый большой фильм (первым фильмом был малоизвестный «Седьмой спутник»). Критики говорят о «гиперреалистической реальности» Германа, о том, что таким способом Герман снимает время. Но так ли это? Реальность у Германа не гиперреалистическая, а гиперсубъектизированная и по сути шизофреническая. К действительности эта «реальность» никак не относится, это фарс, автор которого на полном серьезе принимает его за жизнь и не устает кичиться своей патологией. Узнать о времени из фильмов, снятых методом Германа практически невозможно. Действительно, забавно было бы посмотреть о жизни дореволюционной снятой методом Германа (с ремаркой: вот потому и случилась революция 17 года!). Еще можно было бы для серии снять жизнь в 90-х — вообще один в один Хрусталев, только без идеологической подоплеки. Получился бы сериал с абсолютно неразличимой датой происходящих событий! Так что со всей полнотой ответственности можно утверждать: в фильмах Германа увидеть время невозможно, а можно увидеть только сам метод Германа. Но кроме метода, есть собственно содержание фильма, собственно фильм. Зритель воспринимает фильм через людей, отображенных в фильме. А людей у Германа (согласно методу) практически нет. Есть толпа уродов-статистов, олигофренов, на мой взгляд, и 3-4 деформированные личности, которым удалось на несколько секунд дольше продержаться в кадре. Надрыв и эпатаж есть (опять же согласно методу), а человека, личности, психологии — нет. Кривляющиеся, безвольные, сумасшедшие олигофрены мельтешат на экране. По сути, в фильме нет ни одного нормального человека и даже главный герой олигофрен, хотя и врач и генерал. Перед нами мир олигофренов. Причем мир олигофренов отображенный в театре теней. Зритель, изначально даже благожелательно настроенный, постепенно впадает в изумление и перестает верить Герману. Уже к середине фильма зритель, что тот Станиславский: «Не верю!» И всё тут. Не верю — потому и не трогает, не верю — потому и не задевает, не верю — потому и не сопереживаю, потому и ухожу из зала и не важно где тот зал, в Ницце или в Урюпинске. А вот зритель в деревне Гадюкино не уйдет из клуба: все равно дожди, а тут показали извращенный секс, садизм и насилие на большом экране! К ним с удовольствием присоединятся восторженные дамочки из «культурной» тусовки: модный тренд на Германа наконец-то соединился с тщательно подавляемой сексуальной гнилью в подсознании, а здесь разрешено и культурно кодифицировано! Здесь вам и минет в кабинете — какая прелесть!, и лишение девственности — шарман!, и анальный секс с опусканием крупного самца — боже, как это чувственно! Это Ника!, Ника! без всяких сомнений, Ника! без страха и упрека! Боюсь, главная беда не в этих дамочках, беда в самом Германе. Дело в том, что сцены сексуальные с насилием или без оного, сюжетно не оправданы. Вырежьте их и ровным счетом ничего в фильме не изменится. Собственно сюжетной линии они не касаются. Отсюда их искусственность, неестественность. Заметна эволюция Германа от любви романтической в Лапшине, к извращенному выхолощенному сексу в Хрусталеве. В собственно сюжетной линии (если вообще таковую можно умудриться выцепить в фильме), мне резануло ухо еще и безмерное опошление интеллигенции. Неужели академик Виноградов (лечащий врач Сталина) превратился в эдакого монстра-генерала у Германа? Хорошо, пусть это будет и не конкретно Виноградов, но любой другой представитель интеллигенции, арестованный по делу «врачей-убийц»(28 врачей), не стыдно ТАК изображать нашу интеллигенцию? Герой Германа алкаш, самодур, садист, придурок и извращенец — пожалуй, такой действительно смахивает на врача-убийцу. Косвенно Герман, выходит, поддержал Сталина. Стыдно мне, стыдно… 2 из 10 |
| Оценка | 3 |
| Заголовок | Гений? |
| Текст реценизии | Алексей Герман, так любимый мной за «Проверку на дорогах», вставив в этот за версту отдающий «солженицовщиной» фильм эпатажную сцену с изнасилованием, приравнял его к антишедевру. Я не против насилия, но обоснованного и правдоподобного. Генералу зубы что ли повыбивали, ладно на заднице их нет. Его пассивность ошарашивает. Да и слабо верится что зэки опускали так первого встречного. В ихних неписаных законах подобный беспредел, насколько я знаю, не приветствуется. Особенно в то время. Даже Ноэ в своей «Необратимости» так не смаковал детали (просто поставил камеру и всё). Кабы не эта сцена «Хрусталёва» вообще бы не заметили. Сколько про это уже понаписано и снято. Да,- быт коммуналок, диалоги героев, которые постоянно перебивают друг друга, уместный мат — всё. Невнятная сюжетная линия окончательно добивает. Какой то двойник. Откуда взялся? Сталина умирающего вставили до кучи. И это в Каннах показывали?! Бедные. Хотя, фон Триер их закалил. Страшно подумать, что Герман сотворил со Стругацкими. Название уже изменено в «Историю арканарской резни». Куда мир катится? Надо срочно Зощенко почитать, чтоб удалить дурное послевкусие. 5 из 10 |
| Оценка | 1 |
| Заголовок | Нуар |
| Текст реценизии | Этому фильму подходит эпитет: «нуар». Очень правдоподобный и немножко циничный что ли. Удивительно как Герману вдалось воссоздать не только атмосферу, но и обстановку, быт тех лет. Развешанную на всех сайтах и трекерах фабулу «Федя Арамышев разглядывал фигурку на капоте машины и…» с первых минут фильма можно забыть напрочь. Сюжет лишь косвенно повествует об этом. Можно и не заморачиваться «делом врачей»: это не документалка, чтобы сравнивать сюжет и «дело врачей». Здесь важнее «картинка». 9 из 10 |
| Оценка | 1 |
| Заголовок | |
| Текст реценизии | Сложно подобрать верные слова, чтобы описать фильм выдающегося режиссера Алексея Германа. Повествование истории о сфабрикованном деле против генерала медицинской больницы Юрия Клёнского склонна к фарсу и чувству безумия, безысходности, в то же время отчетливо показывающая зрителю яркую, насыщенную картину Сталинских времён. Не сколько сложно подобрать слова, сколько сложно разобраться в повествовании сюжета автором фильма. Это усугублено динамичностью и быстротой диалогов персонажей, а так же и тем, что нам не «разжевывают» происходящее на экране. Герман показывает, но не рассказывает. Преодолев сложность повествования киноленты, можно увидеть великолепный фильм, не побоюсь этого слова, один из самых необычных в мировом кинематографе. Сюрреалистическая трагикомическая драма о безжалостном времени в нашей истории, оставляющая под впечатлением за счёт убедительности и необычном подходе к подаче материала зрителю. |
| Оценка | 2 |
| Заголовок | «Мне показалось, что я умираю. Это со мной случается часто». |
| Текст реценизии | Ох и тяжело же писать про этот фильм! Начнем с того, что я не самый большой любитель творчества режиссера Алексея Германа. Для меня его лучшим фильмом так и остались «Проверка на дорогах». Безусловно, человек талантливый (гением его не назову). Имеет свою уникальную манеру повествования. Суть его новаторского подхода заключается в «документальной» манере повествования — длинными сценами, снятыми одним планом. «Живое» дыхание обстановки — люди, проходящие перед камерой, периодически попадающие в кадр люди. Как в принципе и в реальной жизни когда начинаешь снимать своей любительской камерой. Постмодернизм — это когда я снимаю то, что хочу. А вы понимайте как хотите. Кто не понимает — то не дорос. А те, кто понимает — пытается вычленить из каких-то полутеней бесконечные аллюзии, аллегории, видя метафоры в каждом взгляде. Эту мысль мне подсказал один мой друг, живущий в США, когда я его спросил «что такое постмодернизм?». В одном из интервью Герман сказал: «Мне показалось, что я умираю. Это со мной случается часто. И я сказал Светлане (супруге — Светлане Кармалите): давай сделаем фильм чтобы что-то осталось из моего детства. Собственно я не очень люблю такие антисталинские поделки, особенно когда их снимают люди, которые о репрессиях знают практически по наслышке. Юрий Герман — отец, был вполне любимым властями писателем, по произведениям которого он снял два из четырех своих сделанных фильмов. Сюжет фильма, если начать его рассказывать, простой как «три копейки»: военный врач Кленский работает в огромной психиатрической клинике, постепенно начинает чувствовать за собой слежку. Однажды он сбегает, но его ловят. По пути автозак, в котором он находится, перехватывают и доставляют на дачу к умирающему Сталину. Собственно фильм для меня так и остался загадкой. У меня вообще сложилось ощущение, что Алексей Юрьевич сам не очень понял о чем снял. Пардон за сравнение, но вот например у Дэвида Линча мне тоже не с первого раз становится понятно что там происходит. Однако же большинство фильмов Линча я бы охарактеризовал термином «магический реализм». Герои «Хрусталева» ведут себя неестественно, абсурдно, словно сами все они находятся в сумасшедшем доме. Такое нестандартное дурное поведение мне напомнило фильм Муратовой «Астенический синдром», который мне понравился гораздо больше. Как я понял, то маленького мальчика — сына Юрия Кленского, говорящего голосом взрослого — Герман-режиссер срисовал как бы с себя. В таком случае что он хотел показать о своём отце в сцене изнасилования? Или это из разряда «не воспринимайте буквально — читайте между строк»? Это и есть постмодернизм, понятие, которое меня раздражает. Под этой «ширмой», как мне иногда кажется, может писать КТО угодно и ЧТО угодно. Не знаю что там сделает с классическим произведением Стругацких режиссер, но в отличие от большинства, ничего хорошего я от фильма не жду. Но это уже другая история. 4 из 10 |